Покиньте твиттер
Александр Уржанов — об эволюции и деградации русского политического языка

A blog of the Kennan Institute
Александр Уржанов — об эволюции и деградации русского политического языка
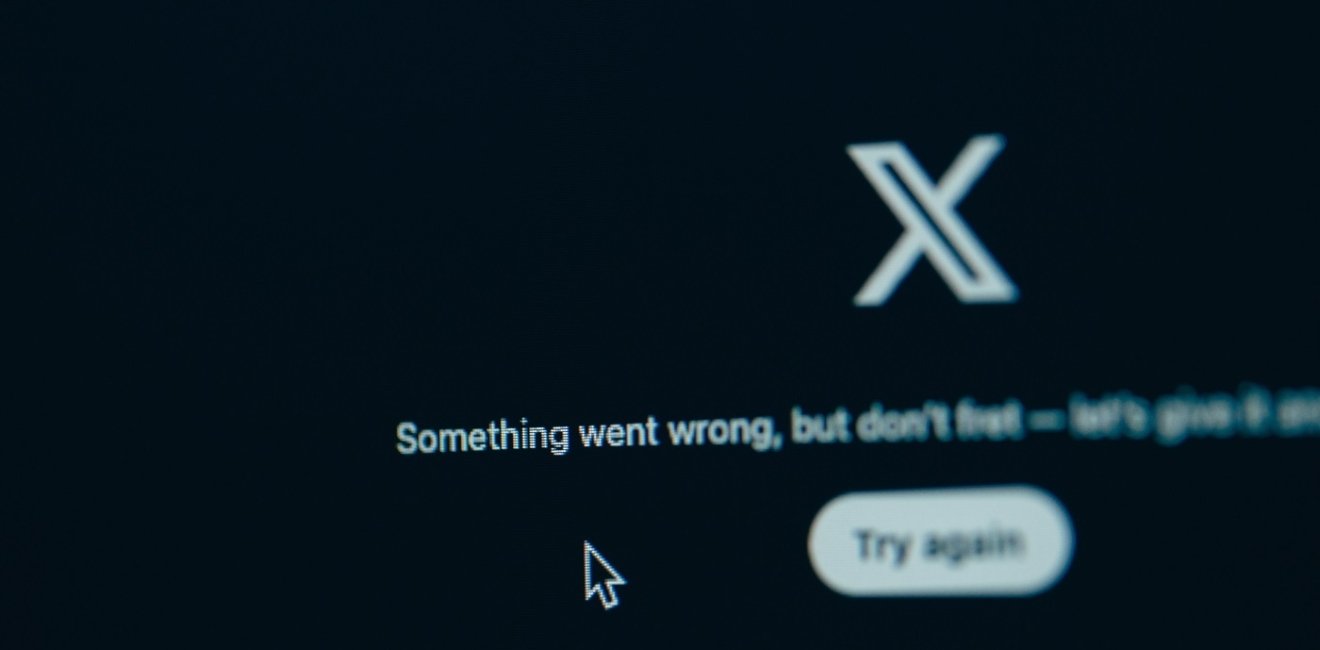
Мир, в котором люди доверяют и помогают друг другу, существует. Мир, в котором у каждого своя длинная история, ценная сама по себе, существует. Жизнь, в которой есть место ошибкам, но не они определяют каждого из нас, существует. Политика как часть представительной демократии существует. Мысль, не отравленная примитивными установками и не бегающая по кругу, существует. Нужно только покинуть твиттер.
Если вы не знаете, что такое соцсеть «икс», вы прочитаете этот текст одним образом. Если проводите дни и часы в очень маленьком (может, на несколько тысяч человек) пузыре русскоязычной оппозиционной политики, знаете пантеон его героев и историю его скандалов, вы прочитаете этот текст другим образом. Если, как я, периодически оказываетесь объектом ненависти и знаете об этом, — третьим образом. Но этот текст написан не для того, чтобы убеждать вас (тут достаточно заголовка и добавить к нему, в общем, нечего). Он — о языке, на котором уже много лет оппозиция общается друг с другом, своими сторонниками и противниками.
В книге «Это было навсегда, пока не кончилось» антрополог Алексей Юрчак, подробно описывая разные аспекты жизни последнего советского поколения, отдельно останавливается и на политическом языке перестройки — времени, когда общество, давно слушающее западный рок и варящее джинсы, все равно ходит на унылые партсобрания, на которых критикует «отдельные недостатки». Идеологические ритуалы и высказывания продолжали выполняться и повторяться, несмотря на то что их содержание перестало восприниматься как сколько-нибудь осмысленное.
Почему так? Юрчак критикует популярную, но грубую концепцию «двоемыслия» советского человека и предлагает свою. Он выделяет два аспекта любого идеологического высказывания: констативный и перформативный.
На собрании произносится фраза: «Партия ведет нас к победе коммунизма». Констативный аспект — это ее буквальный смысл, который предполагает, что коммунизм действительно будет построен и партия работает в этом направлении. Поскольку коммунизм планировали построить к 80-му году, все уже понимали, что это ерунда. Перформативный аспект заключается в том, что само произнесение этой фразы — это выполнение ритуала, демонстрирующего видимость участия в идеологической системе, независимо от внутренней веры в правдивость высказывания. И так везде — от заводского партсобрания до Политбюро ЦК КПСС.
Ситуацию, в которой люди перестают верить в буквальный смысл высказываний, но продолжают ритуально повторять их, Юрчак называет перформативным сдвигом. Через несколько лет подвергшаяся этому сдвигу идеологическая система утонет.
Девяностые принесли в политику совершенно новый язык, в котором не выжило буквально ничего из советского наследия, — любая формула, отсылающая к СССР, воспринималась в мейнстриме исключительно как пародийно-сатирическая, при том что в стране продолжали жить десятки миллионов людей, для которых новая версия действительности оказалась страшнее и больнее старой. Одной из причин этой боли и страха стал разгул преступности, намертво приклеивший к слову «девяностые» прилагательные «лихие» и «бандитские».
Криминал проникал и в политику и приносил в нее свой язык, слова «беспредел» и «понт» покинули словари воровского жаргона и переехали в парламент, губернаторские кабинеты и сюжеты теленовостей. Но подавляющей частью политического класса так и осталась советская номенклатура, на фоне которой медийно яркие люди в пиджаках характерного малинового цвета — думская фракция ЛДПР первых созывов или «Толя Бык и Паша Цветомузыка» — статистически все же оставались исключением.
Принято считать, что в начале нулевых публичный язык снова сильно меняется: мол, тот политически активный криминал, который физически пережил девяностые и не сел на солидные сроки, смог остепениться, сменить цвет пиджаков и вступить в «Единую Россию». Но если смотреть на это, как сейчас делаем мы, — на отрезке длиной в сорок лет, — то окажется наоборот: приход в Кремль Владимира Путина стал триумфом петербургского криминала, вошедшего во власть в небывалом количестве, и время, через которое и сам молодой перспективный президент начал радовать мир блатными поговорками и бандитскими шуточками, измеряется месяцами. Язык путинского истеблишмента — это язык, в котором криминальный аспект не то что не отсуствует, а нормализован.
Этот язык, в отличие от советского, я бы назвал предельно констативным. За сформулированной угрозой следует реальное насилие: полицейское, судебное, военное, медийное, низовое и так далее. Идеологический ритуал вымывается вместе с постепенным, растянутым на двадцать лет уничтожением общественных институтов: все, что связано с идеями и ценностями, постепенно становится белым шумом и для политиков, и для их аудитории. «Денацификация» из уст Владимира Путина не значит ничего (и вообще звучит уже после того, как российские танки переходят границу). А вот бандитская угроза изнасилованием: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица» — и есть реальное предупреждение, реальное политическое высказывание.
Вернемся чуть назад, во вторую половину нулевых, когда возникает феномен «Живого журнала» — андерграундной площадки, которая стала уникальным полем экспериментов для российской литературы, поэзии, философии, комедии, публицистики — и политики. ЖЖ был неподцензурным пространством в стране, где российское телевидение уже стало совершенно советским (именно советским, не похожим на сегодняшнее), а парламент, по выражению его спикера, — «не местом для дискуссий». В одной пробирке запросто смешивались построенный на эрративах игровой «олбанский» язык, идеологемы сурковской администрации президента и богемная эстетика НБП. Текст, заканчивающийся лозунгом «Слава России!», мог немедленно быть обреченным на «Креатив говно, автор мудак» — и обиженный автор тут же предлагал комментатору-«жывотному» отправиться «в Бабруйск».
Это могло быть смешно, но потенциал насилия в этом языке, без сомнения, тоже был. И, попавшись на глаза носителям предыдущего политического языка — тем самым бандитам, — воспринимался совершенно иначе. Так, губернатор Псковской области Андрей Турнак организовал покушение на журналиста Олега Кашина, который в ЖЖ назвал его «сраным»; этого было достаточно. Кашин чудом выжил, а не был забит до смерти арматурой.
IV
Одним из ключевых голосов, выросших в жежешной среде, стал молодой «яблочник» Алексей Навальный. Яркий публицист с очень легким стилем и черноватым юмором — тогда он воспринимался именно так и был, безусловно, продуктом своего времени: сегодня невозможно без содрогания читать, что «все северокавказское общество и все элиты объединяет лишь одно: желание следовать скотским законам и обычаям» или что «геи Кировской области представлены в основном п***рами». Невозможно объяснить, почему это было нормально, но это действительно было так — и для нас сейчас важно, что этот язык он придумал и привнес в российскую политику.
Навальный пробовал разные способы привлечения сторонников, и самым удачным оказались антикоррупционные расследования, одним из важных приемов в которых была дегуманизация. Власть в целом называлась «жабой на трубе», бывший президент Медведев — «жалким», и любой чиновник с дачей на Рублевке заслуживал своего унизительного прозвища. То же ждало и тех, кого Навальный считал конкурентами, — оппозиционных политиков, журналистов, правозащитников.
За следующие десять лет молодой партийный клерк превратился в кандидата в президенты России, бросившего вызов Владимиру Путину, со своей медийной машиной, региональными ячейками и пресс-секретарем. Она позже рассказывала, как редактирует тексты Навального: журналиста Ивана Голунова, которому по заказу подбросили наркотики и сломали позвоночник, Навальный назвал «человечком», но пресс-секретарь поправила на «человека» — правда, оставила определение «жалкий врунишка».
Проходит еще несколько ужасных лет. Россия нападает на Украину, Навального травят «Новичком» и убивают в тюрьме. Вокруг этих событий происходит еще два важных для нашего рассказа процесса. Во-первых, значительная часть оппозиционных политиков покидает Россию — и оказывается в изгнании. Отрыв от знакомой среды и семьи, травма эмиграции, разрыв старых связей, непережитое горе — все это нередко заставляет людей умолкать и замыкаться в себе. Но — выходит совершенно иначе.
Потому что, во-вторых, эксклюзивной коммуникационной средой для оппозиционной политики становится твиттер. Это вторая после «Живого журнала» площадка, на которой формируется русский политический язык. Но архитектура твиттера совсем другая: это образцовая страшилка из фильма «Социальная дилемма», где пользователь эффективно подсаживается на одобрение аудитории, а дофаминовые крючки заставляют постоянно обновлять ленту, проводя часы в нескончаемых немодерируемых дискуссиях. Если что, бесконечная лента, все время подбрасывающая посты и ставшая стандартом для соцсетей, была изобретена как раз в компании «Твиттер».
Травматизированные люди сотнями оказываются в социальной сети, которая требует постоянной активности и одобрения; один их главных мотивов твиттера — «А написал, что Б урод, почему Б уже целый день молчит?». Умение вовремя промолчать, критичное для профессионального политика, становится вызывающим, если не компрометирующим.
При этом твиттер построен на полуанонимности — в отличие от фейсбука, где принято не скрывать свою личность, в твиттере под любым популярным постом анонимные аккаунты объединяются с людьми под их настоящими именами, чтобы вместе уничтожить автора вне зависимости от того, кто он и из какого лагеря; ненависти хватит на всех.
И вот в этой среде, идеальной для кибербуллинга, находит для себя новое пространство вся та специфическая политическая культура, формирование которой мы долго описывали выше.
Находясь внутри этого котла, трудно заметить, насколько странная на самом деле эта связка для месседжа и медиума: подразумевается, что поиск ответов и выработка общественного консенсуса почему-то происходят в пространстве, спроектированном таким образом, чтобы будить в человеке тревогу, неуверенность в себе, вечное сомнение и зависть. Действительно, что же может пойти не так?
Но пройдет время, и у этого текста будет следующая глава. Твиттера (по крайней мере, как площадки русскоязычной политической дискуссии) не будет, а на его месте появится что-то другое — как уже был, например, упомянутый выше ЖЖ. Соцсети в их нынешнем привычном виде, может, получат ту же репутацию, что реклама сигарет столетней давности: «Господи, мы еще помним, как это считалось нормальным».
И выяснится, что вне этой среды люди — все те же люди, что и раньше! — не обязательно общаются оскорблениями. А при выходе в офлайн пропитанная ненавистью поляризация вообще выглядит странно: трудно представить себе митинг, на котором с трибуны говорят примерно то, что принято в твиттере, а его участники от этого не приходят в ужас и не расходятся по домам.
Эта следующая глава неизбежно будет, но вы можете не дожидаться ее и уже сегодня избавить себя от смеси ярости и опустошения, которую вы испытаете, когда измучаетесь листать ленту.
Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.


The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region though research and exchange. Read more




